
Студенческий меридиан
Выпуском журнала занимался коллектив журналистов, литераторов, художников, фотографов. Мы готовим рассказ о коллегах и об их ярких, заметных публикациях.
А сейчас назову тех, кто оформлял СтМ с 1990-х до 2013-го.
Главный художник
мастер компьютерного дизайна
и фотограф Игорь Яковлев.
Большая часть обложек и фоторепортажей – творческая работа Игоря Яковлева.
Надеюсь, что нам удастся представить Вам увлекательную историю создания и деятельности СтМ.
Юрий Ростовцев, гл. редактор
«Студенческого меридиана», журнала,
которому я с удовольствием служил
с 1977 по 2013 годы.
Номер 03, 2008
Возвращение на Берикуль
Продолжение. Начало в № 2,2008
 Я
слушал, не понимая, зачем Комаров оправдывается передо мной, подробно рассказывает,
какой испытал страх, случайно наткнувшись на ценности, объясняет, почему он в
1951 году не сдал «особистам» найденную коллекцию семейства сгинувшего рода золотопромышленников
Асташевых.
Я
слушал, не понимая, зачем Комаров оправдывается передо мной, подробно рассказывает,
какой испытал страх, случайно наткнувшись на ценности, объясняет, почему он в
1951 году не сдал «особистам» найденную коллекцию семейства сгинувшего рода золотопромышленников
Асташевых.
Главное – я так и не понимал, причем здесь я, зачем ему нужен? Мне было ясно, что коллекцию Комаров не сдал, не уничтожил, спрятал где-то в Мариинской тайге, и по сей день она там и находится. Но я-то тут причем? Я-то совершенно ничего не знаю. Даже не знаю, где в Мартайге Малый Расстай, где его верховья-низовья, где ключ Иерусалимский.
– Сергей Владимирович, ну а я причем? – спросил я.
– Вы? Вы могли бы помочь, – сказал Комаров.
– Чем?
Тонкая папка лежала на столе перед бывшим главным инженером «Натальевской». Он подвинул эту папку ко мне.
– Вот, взгляните...
Я открыл папку. И от неожиданности вздрогнул. В папке были фотоснимки, и на верхнем я увидел себя, снятого на речке Берикуль во время поездки туда. Я глядел в объектив аппарата, сидя на корточках на галечном островке посреди речки Берикуль, держа в руках по большому камню. Я даже помнил, что именно говорил за секунду до съемки: хорошо бы найти золотые самородки такие вот крупные, как эти камни.
Справа от меня на фотографии отчетливо видна была береговая крепь из лиственниц, связанных между собой деревянными шкантами и металлическими скобами. В межень, ближе к осени, вода в Берикуле падает, и он делается чуть ли не ручейком, а по весне разливается, взбухает. Вода несется с гор вниз мощным потоком, который сметает на своем пути деревянные мостики, рушит берега, вырывая с корнем вековые деревья. Береговые лиственничные крепи, расставленные век с лишним назад там, куда приходится сильнейший напор, успешно выдерживают натиск, предохраняют берега от разрушения.
 –
Откуда это у вас? – спросил я, перебирая с быстротой, с какой в азарте тасуют
игральные карты, другие снимки, где были сняты ветхий дощатый сарай с провалившейся
на гребне крышей, ручей при впадении в Малый Кожух с крохотным бревенчатым домиком
времен Егора Лесного, Скала Плача, огромный восьмиконечный металлический могильный
крест с фигурными закруглениями на бывшем, выработанном еще в конце девятнадцатого
века прииске Авдотие-Пантелеевском, густо поросшая кедрачом гора с пещеркой ближе
к вершине...
–
Откуда это у вас? – спросил я, перебирая с быстротой, с какой в азарте тасуют
игральные карты, другие снимки, где были сняты ветхий дощатый сарай с провалившейся
на гребне крышей, ручей при впадении в Малый Кожух с крохотным бревенчатым домиком
времен Егора Лесного, Скала Плача, огромный восьмиконечный металлический могильный
крест с фигурными закруглениями на бывшем, выработанном еще в конце девятнадцатого
века прииске Авдотие-Пантелеевском, густо поросшая кедрачом гора с пещеркой ближе
к вершине...
Я посылал эти снимки для иллюстрации вместе с материалом о Берикуле в редакцию. Не все редакция использовала. Но как они попали к Комарову?
– Не волнуйтесь. Никакого, как теперь говорят, криминала, – объяснил Комаров. – Я прочитал ваш материал, подумал, что наверняка еще есть снимки, про запас, с Берикуля, из Мартайги. Прихватил свои старые документы и поехал в редакцию. Ну, а там бывшему начальнику мартайгинских шахт конца 1940-х не отказали, сделали мне на память копии с ваших снимков. Надеюсь, вы простите это...
Я промолчал. Да и что было говорить? Ждал, что дальше.
Дальше Комаров подвинул к себе папку с фотографиями, спросил:
– Скала Плача. Знаете, почему название такое?
– Женский монастырь в горах в старину был. Монашки, по преданию, когда рожали, с этой скалы новорожденных бросали в пропасть. Так, кажется...
– Именно так, – задумчиво подтвердил Комаров. – Я, когда работал там, видел остатки монастырских строений.
Он взял в руки фотографию, на который был надмогильный крест:
– Этот снимок вы сами делали? В прошлом году?
– Да.
– Значит, крест цел?
– Как видите.
– Чугунный крест на могиле трех старателей, умерших от холеры в 1889 году, – сказал он, уточняя не то для себя, не то для меня.
– Да.
– И вы могли бы провести к нему?
Вопрос прозвучал буднично, так же, как и о Скале Плача. Но, кажется, именно после этого я понял, чем так заинтересовал материалом о Берикуле – «Реке Волка» – бывшего главного инженера шахты «Натальевской», почему он мне рассказывал историю с белогвардейским капитаном – потомком золотопромышленника-миллионера, историю с коллекцией семейства Асташевых.
Скорее всего, Комаров в 1951-м спрятал, закопал попавшую в его руки коллекцию, закопал капитально и надолго где-то поблизости от надмогильного креста, а потом, когда спустя много лет приехал за ней, не сумел найти крест-ориентир. Когда мы в прошлом году в конце августа приехали с районным охотоведом на Берикуль, совсем случайно узнали про этот крест.
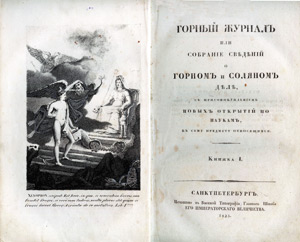 Притормозили
в поселке у домика, где в огороде копошился низкорослый дедок, собирая спелые
помидоры. Подошли купить. Дедок-пенсионер, некогда экскаваторщик на прииске, был
малость навеселе, сказал, что все это ерунда и сказка – с Егором Лесным, а если
даже не ерунда и не сказка, то попробуй сыщи теперь след этого самого Егора.
Притормозили
в поселке у домика, где в огороде копошился низкорослый дедок, собирая спелые
помидоры. Подошли купить. Дедок-пенсионер, некогда экскаваторщик на прииске, был
малость навеселе, сказал, что все это ерунда и сказка – с Егором Лесным, а если
даже не ерунда и не сказка, то попробуй сыщи теперь след этого самого Егора.
Зато самое старое, что сохранилось в тайге, – крест на могиле трех старателей. То есть старателей было двое – Евдокимов и Пилипенко, а с ними важная персона из самого Питера – корнет Быков. Но все равно зовут – могила и крест трех старателей. Вот это и есть самая что ни на есть старина в Мартайге. Главный памятник, можно сказать, всем, кто тут золото мыл-добывал, старался. Если у этого креста не побывать, считай, зря и приезжали.
Памятник лет десять–пятнадцать назад упал. От старости ли наклонился, или свалило какое хулиганье, но дедок и его кореша непорядок не так давно исправили: крест опять на прежнем месте стоит. Старик с тоской посмотрел на свою почти приконченную бутылку, сказал, что если мы не жадные и купим ему водочки, он готов показать дорогу к кресту.
Мы были не жадными, продмаг оказался рядом, и через полчаса дедок уже около изрядно заросшего бурьяном креста, выпив за всех старателей Мартайги, рубил топором одеревеневшую высокую траву, расчищая пространство вокруг старинной братской могилы, а я и мой провожатый охотовед разглядывали массивный чугунный крест, читали написанное на нем. Потом я его фотографировал...
Так что, если памятник был ориентиром, а Комаров и его внучатые племянники приезжали за спрятанными сокровищами тогда, когда крест валялся в густой траве, немудрено, что они его не нашли и уехали ни с чем...
Сразу после вопроса, могу ли привести к кресту, я почувствовал на себе заинтересованные взгляды Максима и Андрея. Взгляды были тем внимательнее и нетерпеливее, чем дольше я молчал.
– Так могли бы вы провести к кресту? – повторил вопрос Комаров, ладонью накрывая снимок.
– Это важно? – спросил я.
– Очень важно! За одно это вы и получите пятьдесят тысяч долларов, – сказал Андрей.
– Там коллекция Асташева?
– Да. Там недалеко, – ответил он.
– Вы там были и не нашли креста? – поинтересовался я.
– Да. Были. Семь лет назад, – ответил другой племянник Комарова, Максим.
– А почему вы, когда уезжали, еще в пятидесятых, не забрали коллекцию? – спросил я у Комарова.
– Я уезжал зимой. Нужно было часа два-три долбить мерзлый грунт. А полвека назад там было людно.
– А позднее?
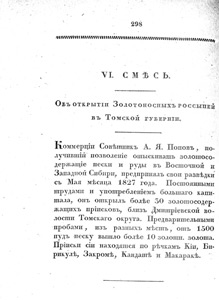 –
Вплоть до 1991 года тот участок тайги был сплошной охраняемой зоной, зэки валили
лес, – ответил бывший главный инженер «Натальевской». – Да и зачем мне это было
нужно? Я и без того имел все, что надо. Я и сейчас... Парни вон, – Комаров кивнул
на племянников. – Для них.
–
Вплоть до 1991 года тот участок тайги был сплошной охраняемой зоной, зэки валили
лес, – ответил бывший главный инженер «Натальевской». – Да и зачем мне это было
нужно? Я и без того имел все, что надо. Я и сейчас... Парни вон, – Комаров кивнул
на племянников. – Для них.
– Хорошо, – сказал я. – А кто поручится, что там вместе с коллекцией не окажется несколько килограммов приискового золота? А за золото и сейчас надолго лесоповал.
– Нет там приискового золота. Что для меня тогда стоило золото? Что хотел, на память взял.
Комаров поднялся, припадая на негнущуюся ногу, подошел к секретеру, вынул оттуда шкатулку, вернулся к столу и поставил шкатулку передо мной.
– Вот. Это интересно. А песок что? – он откинул крышку. Внутри шкатулки лежали на гофрированной плотной бумаге золотые самородочки, штук пятнадцать. Разнокалиберные. Величиной от горошины и до приличных размеров дольки апельсина. Самый крупный и имел форму апельсиновой дольки.
Я повертел его в руке, подумал, что Комаров и при Сталине был не из пугливых, по крайней мере, собственной тени не боялся, если брал такое на память; положил самородок на место в шкатулку, спросил:
– Могу я знать, что в асташевской коллекции?
– Ну, я уже говорил: монеты старинные царские золотые и серебряные, ордена разные, русские и иностранные, – ответил хозяин квартиры.
– А почему вы уверены, что коллекция на полмиллиона–миллион долларов потянет?
– Как? – не понял Комаров.
– Вы же не хотите сказать, что там тысяч на сто, и половину по-братски отломите мне. Что-то же вы запомнили в коллекции. Или, может, даже список был?
– Нет, списка не было, а сам я составить не мог. Я тогда просто не знал, что есть что. Медаль 1793 года в честь свадьбы будущих Александра Первого и императрицы Елизаветы запомнил. Великий князь Александр Павлович в пятнадцать лет и четырнадцатилетняя великая княгиня Елизавета Алексеевна на ней. Оба – в профиль, глядят друг на друга. И другая медаль – они же через двадцать один год. Точно такой же сюжет. Царь Александр уже – победитель Наполеона. Сколько, как вы думаете, две такие медали стоят?
– Не знаю. – Я пожал плечами.
– И никто не знает, – сказал, вмешиваясь в разговор, племянник Максим. – Я пытался узнать. Бесполезно. На любителя. Один и десяти тысяч за них не даст, другой и сто, и двести тысяч, и больше с радостью выложит, только бы иметь. Редкость. Просто не выставляют в продажу. Никогда, нигде и ни за какие деньги.
– Иван Асташев – тот, который первым пришел в Мартайгу и заработал первые миллионы, – служил у генерал-губернатора Сибири Сперанского. А Сперанский был близок к Александру Первому. Может, от Сперанского Асташев и получил эти медали. Не знаю, не буду гадать.
–Ясно, – я кивнул, взглянул на Комарова: – Вы еще упомянули орден Подвязки. Асташев предлагал американцу...
– Нет, о нем мне говорил Переверзев, старший лейтенант госбезопасности. Он напутал. Был только орден Бани.
– Серьезный орден...
Я о таком даже не слышал, не знал его цены, но можно было представить, что дорогой. Не стал больше расспрашивать, тем более что, может, все, что мне рассказали, было чистейшей воды выдумкой, и в старинной вотчине Егора Лесного, в Мартайге около надмогильного креста зарыто что-то совсем другое.
– Хорошо. Если мы даже договоримся, все равно там будет золото, хоть и в медалях, монетах. На выезде из тайги могут проверить.
– Ваше дело – только указать место, – сказал Максим.
– А деньги, конечно, потом? – спросил я с иронией. Мог позволить себе говорить так, пока Комаров и племянники от меня зависели.
– А деньги сейчас. И полностью, – ответил он. Из внутреннего кармана пиджака Максим вынул пачку пятисотевровых. – Пачка неполная, – предупредил, – несколько листиков вынуто. Пересчитано по курсу евро/доллар.
Я посмотрел на положенную передо мной надорванную пачку. Брать не очень хотелось. Но и на попятную идти уже было нельзя. Теоретически – можно, практически – нельзя.
Я взял со стола деньги. С большой, просто огромной неохотой. Было предчувствие, что просто показать парням, где крест на заимке Аршауловской, и уехать не получится...
Валерий ПРИВАЛИХИН
Продолжение следут
К началу ^

